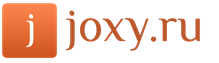Государственный капитализм: понятие, основные тезисы, методы и цели
Общественным строем в России является государственный капитализм, а не государственно олигархический капитализм. Рассмотрим, какой же на самом деле строй в России. Доля государства в экономике слегка больше 70%.
Общественным строем в России является государственный капитализм (или ласково «госкап»). А если точнее, то государственный капитализм с сильной социальной составляющей.
Капитализм — есть работодатель (частный собственник), есть наемный рабочий (пролетарий). Наемный рабочий производит товар, за свою работу получает зарплату, а работодатель присваивает себе прибавочную стоимость. Есть эксплуатация человека человеком.
Государственный капитализм — есть работодатель (государство с партаппаратом), есть наемный рабочий (пролетарий). Наемный рабочий производит товар, за свою работу получает зарплату, а работодатель присваивает себе прибавочную стоимость. Есть эксплуатация человека государством.
Социализм — каждый рабочий (пролетарий) является одновременно и работодателем и работником предприятия. Работники предприятия производят товар и прибыл предприятия равномерно делиться между работниками как совладельцами предприятия. Нет эксплуатации человека, каждый работает на себя и на свое предприятие, так как от него самого уже зависит работоспособность предприятия.
Все элементы социальной политики описывать не будем, их слишком много и для этого нужно целую серию статей писать. Сосредоточемся на самых важных и самых ярких.
Будем сравнивать с Соединёнными Штатами, которые типа «самая успешная экономика мира», и в которых ничего подобного нет.
1. Программа по расселению в нормальное жильё за государственный счёт всех живущих в бараках и строительных вагончиках. В США такого попросту быть не может. Там сотни тысяч (если не миллионы) живут в трейлерах, кемпингах, гетто и прочих бомжатниках, и всем плевать: не заработал на дом – живи в коробке. А в России тысячи семей за последние несколько лет уже получили квартиры от государства, как в старом добром СССР.
2. Помощь при стихийных бедствиях. Аналогично – государство за свой счёт возводит целые посёлки на месте сгоревших или затонувших, ремонтирует подлежащее восстановлению жильё и так далее. И это воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
В США если у тебя сгорел дом, а ты не застрахован – это твои проблемы, иди бомжевать. Вон, несколько лет назад ураган «Катрина» почти полностью разрушил легендарный и мистический Нью-Орлеан (почти 400 тысяч жителей). Какие-то жалкие крохи американское правительство выделило, но и они были разворованы. И до сих пор значительная часть города в руинах, многое из разрушенного никто толком и не начинал восстанавливать. Сейчас затопило Хьюстон, и мы посмотрим, как федеральное правительство будет помогать местным жителям (у меня сильные сомнения, что будет лучше, чем в Нью-Орлеане).
3. Малоизвестная большинству россиян деталь: по программе переселения соотечественников вновь вернувшиеся в Россию русские имеют право на безвозмездную помощь в покупке жилья. То есть, опять же, государство покупает им квартиры (а если они хотят дороже, чем на выделенную сумму – то тут уже пусть сами доплачивают).
Можете назвать аналоги в других «капиталистических» или «олигархических» странах? Можно продолжать, но это всё же не основная часть нашей статьи.

1. Доля государства в экономике России только за последние десять лет выросла в полтора раза. Доминирование в ней компаний, так или иначе контролируемых государством, еще больше размывает конкурентную среду.
2. Перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России оценивалась примерно в 25%. В 2008 году уже в 40-45%. К 2013 году она, по признанию самого правительства, превысила 50%. Сегодня, по многим экспертным оценкам, она может превышать уже 60%.
3. При этом в экономике возникают все новые гибридные формы государственного капитализма.
4. К 2013 году, даже по данным Министерства экономического развития, доля госсектора увеличилась до 50%.
Для сравнения, некий среднемировой уровень оценивается примерно в 30%. Однако сама оценка доли госсектора в российской экономике осложняется тем, что государству принадлежат определенные доли в акционерном капитале и многих формально коммерческих компаний. Поэтому существуют и более радикальные оценки доли госсектора в экономике России. Например, Международный валютный фонд еще несколько лет назад оценивал ее в 71% ВВП.
А в 2014 году на волне паники на фондовых рынках, связанной с введением против России санкций, государство прикупило ещё основательный кусок стратегических активов с существенным дисконтом.
5. В официальной статистике того же Минфина России не учитываются финансовые операции ни Фонда развития ЖКХ, ни госкомпаний «Роснано» или «Автодор». Более того, «секретная» часть российского госбюджета уже в 2014 году составляла 14%, сейчас она стала значительно большей.
6. Еще в начале 2014 года в правительстве говорили о планах резко сократить долю госсектора в экономике всего за несколько лет.
В частности, первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая тогда на Гайдаровском форуме, заявил о необходимости «стремиться к тому, чтобы к 2018 году не более четверти экономики контролировалось государством». С тех пор этот срок приблизился уже на два года, но доля государства в экономике выросла еще больше.
7. В 2013 году правительство говорило, что к 2018 году доля госсектора с 50% снизится до 20%. Потом возникли небольшие «уточнения».
8. Недаром представители крупнейших бизнес-ассоциаций попросили защиты даже у президента Путина – чтобы он выступал своего рода третейским судьей в наиболее сложных и спорных случаях по захвату бизнеса, особенно – по разрешению бизнес-споров с привлечением административных органов. Уровень конкуренции в российской экономике снизился в силу разрастания госкомпаний, что негативно влияет на секторы малого и среднего бизнеса, вытесняя недружественные им структуры, например, в ходе госзакупок.
9. Проблема и в том, что сам госсектор не представляет «прозрачной» отчетности – хотя бы в той мере, на какой настаивают иностранные инвесторы.
Скажем, еще в 2014 году устами МВФ они сетовали на нехватку информации по госкомпаниям, что затрудняло оценку реальной долговой нагрузки российского государства в целом. Например, доля госсектора в российской экономике, по тогдашним оценкам МВФ, превышала 70% ВВП.
10. В свою очередь, слишком большая доля госсектора означает очень высокие налоги, что тоже подавляет предпринимательство.
Западные экономисты и эксперты, включая МВФ, считают, что в России госкапитализм. А вот доморощенные диванные патриоты, которые книжек не читают, думают, что нет.
Пару лет назад в российскую горнодобывающую отрасль вошла инвестором компания «Glencore», что вызвало у некоторых караул-патриотов нешуточный баттхёрт.
Историческая справка: швейцарская компания «Гленкор» была основана в 1974 году КГБ СССР (это уже не секрет, так что можно рассказывать) для непрямых закупок западного оборудования для советской промышленности в обход введённых против СССР санкций. После развала СССР компания продолжила успешно развиваться. И вот недавно вернулась на Родину.
Так, что доля государства в экономике слегка больше 70%.

В мелкобуржуазной стране преобладает, и не может не преобладать мелкобуржуазная стихия, большинство, и громадное большинство земледельцев – мелкие товарные производители. Поэтому В.И. Ленин делает вывод: “Рабочий класс, научившийся тому, как отстоять государственный порядок против мелкособственнической анархии, как нам наладить крупную общегосударственную организацию производства на государственно-капиталистических началах, будет иметь тогда все козыри в руках, и упрочение социализма будет обеспечено”. (В.И. Ленин, ПСС, т.36 с.295-296).
В качестве примера государственного капитализма Ленин приводит Германию и пишет: “…поставьте на место государства… буржуазного, империалистского, тоже государство, но иного социального типа, иного классового содержания, государство советское, т.е. пролетарское, и вы получите всю ту сумму условий, которая даёт социализм” (В.И. Ленин, ПСС, т.36 с.300).
С марксистской точки зрения базой для уничтожения частной собственности и непосредственного перехода к социализму является развитая крупная промышленность. Ленин считал, что “без высоко поставленной крупной промышленности не может быть и речи о социализме вообще, и тем менее может быть речь о нём по отношению к стране крестьянской (В.И. Ленин, ПСС, т.43 с.305-306).
Установление после Октябрьской революции государственного капитализма как этапа для перехода к социализму было для Ленина объективной реальностью начала 20-х г.г. XX века. “Поскольку мы ещё не в силах осуществить непосредственный переход от мелкого производства к социализму, постольку капитализм неизбежен в известной мере, как стихийный продукт мелкого производства и обмена, и постольку мы должны использовать капитализм (в особенности направляя его в русло государственного капитализма) как последующее звено между мелким производством и социализмом” (В.И. Ленин, ПСС, т.43 с.229).
“Государственный капитализм, как мы его установили у нас, является своеобразным государственным капитализмом… Наш государственный капитализм отличается от буквально понимаемого государственного капитализма тем, что мы имеем в руках пролетарского государства не только землю, но и важнейшие части промышленности” (В.И. Ленин, ПСС, т.45 с.289).
- Tags:
В данной главе рассматривается государственный капитализм как формы организации экономики и его связь политической сферы.
Экономическое положение государства оказывает сильное влияние на политику. Отсутствие финансовых ресурсов делает невозможным строить дальнейшие планы развития государства или решать глобальные проблемы. Государства с более высокими экономическими показателями, чем остальные сильнее влияют на внешнеполитическую ситуацию в мире, а так же могут себе позволить спокойно осуществлять необходимую им внутреннюю политику. А государства с плохими экономическими показателями не имеют таких возможностей, поэтому такие государства сильно зависят от более богатых стран, так как при нехватке средств более богатые страны кредитуют страны с дефицитом бюджета. В итоге по факту осуществляется регулирование экономики государством, но только извне.
Взаимоотношение экономики и политики - одна из важнейших сторон жизни общества. Причем, проблема этого взаимоотношения идет с формирования политической сферы общества. На каждом отдельном историческом этапе эта проблема превращается в несколько иную, что связано эволюцией общественных отношений.
Одним из первых пунктов, по которым экономика и политика соотносятся - это само формирование государственных институтов (речь идет о странах с наличием выборных органов власти). Обретение власти тем или иным политиком или политической партией зачастую обусловлено наличием определенной экономической программы. Программы, которые обещают повышение уровня благосостояния, экономический рост в стране, склоняют проголосовать за соответствующего кандидата.
Политика и экономика связаны непосредственно, причем определяющую роль в этой связи играет экономика, которая представляет собой материальную основу политики. Развитие экономических процессов определяет форму политики политику. Содержание политики, тех или иных политических решений и действий, в конечном счете, определяются экономическими интересами людей. Однако их взаимосвязь не является односторонней.
Несмотря на то, что вроде бы экономика определяет политику, последняя все же обладает определенным уровнем самостоятельности, поэтому в свою очередь также оказывает значительное влияние на экономику.
Активная роль политики в отношении общества в целом и в частности его экономической стороны проявляется в том, что в том, что политика осуществляет функции управления общими делами государства, обеспечения приоритетов социально экономического развития, стабильности социальной и экономической систем, укрепления законности и правопорядка.
В вопросе взаимодействия политики и экономики важным остается вопрос, какая же сфера имеет все же больше возможностей по осуществлению влияния над другой. Политика и экономика связаны непосредственно, однако определяющую роль в этой связи играет все же экономика, которая представляет собой материальную основу политики. Развитие экономических процессов определяет форму политики политику. Содержание политики, тех или иных политических решений и действий, в конечном счете, определяются экономическими интересами людей. Однако их взаимосвязь не является односторонней.
Ф. Энгельс говорил о том, что влияние политики на экономику может быть трех типов: первый - когда политика идет в одном направлении с экономикой, как результат, развитие идет быстрее21. Второй тип - когда политика действует против экономического развития, и в итоге всегда наступает момент, когда такая политика терпит крах. Третий тип влияния представляет собой политику, помыкающую экономикой, когда политика создает преграды экономике и толкать развитие экономики в других направлениях. Третий тип всегда превращается в один из двух предыдущих.
В противовес теории Энгельса можно привести работу К. Поппера «Открытое общество и его враги», в которой автор говорит о том, любая политическая власть имеет фундаментальный характер, а следовательно, может контролировать экономическую мощь и создавать программы защиты экономически слабых субъектов.
Для того чтобы понять уровень на котором соотносятся политика и экономика, можно также вспомнить фразу В. И. Ленина о том, что политика является концентрированным выражением экономики. Ленин в своей работе «Государство и революция» определил государство как «продукт непримиримости классовых противоречий»23. Другими словами, государство, которое в понимании Ленина и было политикой, появлялось только тогда, когда в обществе создавалось некоторое напряжение во взаимодействии между различными социальными группами.
Если теории о том, что политика и экономика связаны не вызывают сомнений, то вопрос о том, насколько сильно политика в лице государства может влиять на экономику всегда оставался открытым. В западной экономике есть две школы, представляющие диаметрально разные теории на этот счет24. Первая школа классической экономической теории, одним из известных представителей которой был Адам Смит. А вторая - кейнсианская школа, которая по времени появления отстоит от первой почти на двести лет. Первая школа рассматривала государство только как «ночного сторожа», который лишь охраняет экономику, которая представляет собой саморегулирующуюся систему. Вторая школа подразумевала, что экономика не может себя регулировать, а значит, многие основополагающие функции должно было взять на себя государство. Идеи кейнсианской школы легли в основу вышеупомянутого «курса Рузвельта» Фридрих А. фон Хайек, австрийский экономист и философ был известен как ярый сторонник свободной рыночной экономики. Очевидно, что социализм явно противоречил его взглядам, поэтому большое количество его работ подвергала социализм жесткой критике. Одна из идей Хайека как философа заключалась в том, что общество должно строиться вокруг рынка, где основная функция государства заключается во внедрении в жизнь юридического порядка (который состоит из абстрактных правил), необходимого для функционирования свободного рынка.
Экономическая модель демократии сформировалась в политической науке благодаря тому, что в социологии, а следовательно, и в политологии в 1950-х распространился так называемый «экономический метод», которые основывался в свою очередь на теории рационального выбора. Человеком, который первым начал использовать теорию рационального выбора для описания политических процессов стал Энтони Даунс. Теория Даунса касалась в первую очередь поведения избирателя на выборах, то, как он делает свой выбор. Связь теории рационального выбора и государственного капитализма на первый взгляд неочевидна, при это даже в политологии теория рационального выбора не используется, однако государственный капитализм существенно ограничивает политический выбор человека, вне зависимости от того, на какой основе он делает свой выбор, на рациональной или экспрессивной. Стоит заметить, что здесь складывается интересная система. В последнее время в политологии не всегда принимают вов внимание выбор человека на рациональных основаниях, однако экономическая политика, которая впоследствии может создать этот самый государственный капитализм, должна выбираться на рациональных основаниям. Поэтому создается условное слепое пятно у избирателя, в которое попадает экономическая политика Роберт Даль, американский исследователь демократии, в книге «Введение в экономическую демократию» делает предположение о том, что демократическому строю должен соответствовать и особый экономический, то есть он ставит политику выше экономики, отдавая ей определяющую роль в определении экономического строя. Р. Даль не дает конкретного названия для этого строя, он лишь описывает его с помощью характеристик, которые присущи самой демократии: в первую очередь это строй, которые подразумевает участие в функционировании многих субъектов, еще этот строй должен быть справедливым с экономической точки зрения (это проявляется в конкуренции, а также распределении богатств). Этот строй должен быть эффективным с точки зрения затрат и прибыли, подразумевал личные ресурсы, то есть частную собственность, и экономическую свободу26. Исходя из этого можно сделать выбор, государственный капитализм не располагает к демократическому правлению. Государственный капитализм не располагает к демократии еще и потому, что в экономике при такой организации есть монополия государственных компаний, несмотря на то, что теоретически они просто зарабатываю деньги для государства, они оказывают значительную поддержку тем, что ограничивают поддержку капиталом оппозиционных правительству сил.
В 2012 году вышла книга авторов Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты». В этой работе представлена интересная концепция взаимодействия политики и экономики. Эта теория также очень тесно связана с темой государственного капитализма, потому что основывается на принципе включенности в экономику или политику. Согласно это теории все страны условно можно разделить на две группы. Первая группа - это страны с открытой политической и экономической системами, так называемыми инклюзивными институтами. А вторая группа представлена странами с закрытыми институтами - экстрактивными. По теории, благосостояния добиваются лишь те страны, в которых институты инклюзивны. Причем вариант того, что в одной стране политические институты могут являются открытыми, а экономические закрытыми, или наоборот, согласно теории авторов, невозможен. Для них политика тянет экономику, и экономику тянет политику, то есть подтверждается теория о крепкой связи между политикой и экономикой.
Теоретическая основа государственного капитализма начиналась с политической экономии в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. В. Ленин продолжил развивать эту теорию государственного капитализма, поставив государственный капитализм между монополизмом и социализмом в своей теории экономический строев, и называя его государственно- монополистический капитализм. Для Ленина государственно- монополистический капитализм это переходный этап от монополистического капитализма к социализму, и происходит он когда государство соединяет свои силы с силами монополий, интересно, что государство в концепции Ленина не подчиняется монополиям, не заходит в социалистический эволюционный тупик. Идея построения социализма во всем мире была слишком утопической, а вот идея построения социализма в отдельно взятой стране в какой-то мере реализовалась. Однако, находились те. Кто считал социализм в СССР глобальным обманом, в частности Тони Клифф написал труд «Государственный капитализм в России», где выдвинул теорию о том, что в СССР нет никакого социализма, то есть да, там есть государственная собственность на средства производства, есть система государственного распределения прибыли, однако распределение прибыли осуществлялась не в интересах всех трудящихся, а в интересах небольшого количества людей, которые представляли партийную номенклатуру.
Советология
Критики СССР редко рассматривают вопрос с марксистских позиций, то есть не говорят о том, в чем суть государственного капитализма и даже самого капитализма. Есть некоторые формальные признаки, при помощи которых в принципе можно доказать, что в СССР был любой общественный строй. Используются уловки, в частности редуцирование и сверхобобщение.
Главное доказательство в таком «анализе» - аналогии. То есть если критики находят некие общие черты СССР и капиталистических стран – значит это государственный капитализм. Хотя на самом деле некоторые мудрецы находили и такие признаки, которые позволяли сделать вывод: в СССР даже не государственный, а чистый капитализм. Члены партии – буржуазия. Как вариант, это новый вид буржуазии, куда более совершенный. Мол, это вообще будущее, актуальное для всех стран. Антиутопия «1984» - иллюстрация.
Не нужно думать, что это всего лишь фантазия конкретного писателя. На самом деле во времена холодной войны население западных стран запугивали именно в таком духе. Так что в период противостояния подобные аргументы не считались ложными, наоборот, их рассматривали всерьез, эти доводы обсуждались в среде советологов, а буржуазные фонды давали слово противникам СССР, которые разделяли «социалистические» взгляды. Именно тогда появлялись лженаучные концепции вроде теории тоталитаризма.
Мнение людей, сторонников научных взглядов, оставалось неизвестным. Потому что в лучшем случае такое печатали в малотиражных изданиях, и ясно, что буржуазные СМИ особо об этом никого не оповещали. Задача была проста: сохранить капиталистический строй.
А противники СССР среди «левых» выполняли свою задачу. Они, утверждая, что социальная революция неминуемо приведет к «ужасу», «террору» и «тоталитаризму» в конечном итоге занялись ревизией марксизма и получили от буржуазии карт-бланш в СМИ и даже в образовании.
Нельзя в то же время идеализировать СССР. Конечно, проблемы были, но для их разбора нужен научный подход. А в данном случае все-таки речь идет о людях, работающих в интересах буржуазии, которые кровно заинтересованы в сохранении данного способа производства. Навряд ли в таком случае возможно объективное рассмотрение проблемы. Тем более что сегодня есть факты, свидетельствующие о том, что в плане работы с источниками советологи, увы, часто использовали откровенные фальшивки, в том числе россказни Солженицына считались прямо-таки авторитетным источником. Поэтому для многих было не так важно понять, какова реальная природа СССР, а задача была конкретная – борьба с советским режимом.
Что такое государственный капитализм?
Суть государственного капитализма заключается в том, что основные игроки рынка, то есть монополии, сращиваются с государственным аппаратом для того, чтобы извлекать еще большую прибыль. Естественно, в какой-то мере элементы государственного капитализма есть всегда, другое дело – насколько это выражено.
В современных странах, наиболее развитых, элементы государственного капитализма налицо. Используя международные финансовые организации, именно государства, основные члены ЕС, США, Япония и некоторые другие, уничтожают целые отрасли в «отсталых» странах, дабы расширить свое влияние.
При государственном капитализме сохраняется классовое разделение, частная собственность на средства производства. Более того, государственный капитализм куда более «стабилен», чем капитализм в ситуации, когда «рынок все решает». Часто государственный капитализм может свидетельствовать о временной стабилизации режима, зачастую за счет угнетения неразвитых стран, тем самым отчасти сглаживая противоречия в собственной стране.
Левацкие интеллектуалы полагают, что это принципиально меняет рассмотрение капиталистической системы, что теперь уже многие положения политэкономии, характерные для XIX века, просто неактуальны. Хотя на деле можно наблюдать те же самые захваты рынков, перенос производства и неравный обмен.
В такой ситуации левакам жить комфортно, и они просто не замечают того, за счет чего возможна такая жизнь. Их «левые» взгляды все дальше от марксизма, они теперь просто выступают как защитники разного рода «идентичностей», то есть малых групп, которые выступают, например, за права полных людей, геев, представителей малочисленных субкультур и т. д. Угнетение развивающихся стран соответствует их материальным интересам, хотя никто среди «левых» прямо это и не озвучивает. Призывать к революции в странах золотого миллиарда так же разумно, как призывать к революции буржуев, напоминая им о том, что эксплуатация не соответствует нормам морали.
Самое главное, что при государственном капитализме непременно должен сохраняться капиталистический характер производства, то есть оно должно быть направлено на извлечение максимальной прибыли, все основные противоречия способа производства будут сохранены, порождая кризисы и военные катастрофы.
Во времена Маркса и Энгельса находились люди, которые видели в государственном капитализме некий идеал. Классики отвечали на это таким образом:
«Это чисто корыстная, манчестерски-буржуазная фальсификация называть «социализмом» всякое вмешательство государства в свободную конкуренцию - покровительственные пошлины, гильдии, табачную монополию, огосударствление отдельных отраслей промышленности, Seehandlung, королевский фарфоровый завод. Мы должны подвергать это критике, а не принимать на веру».
Навряд ли можно сказать, что улучшения социальной жизни – плохо, однако эти незначительные улучшения не отменяют капиталистическое общество. Объективно подобные реформы и укрепление государственного капитализма могут быть связаны с задачей стабилизировать капитализм. Это могут быть временные меры, как, например, в период, пока было актуально противостояние запада и СССР, в ту пору действительно многие государства можно было считать «социальными», но подчеркнуто с сохранением капитализма как безальтернативного способа производства.
Возьмем словарное определение государственного капитализма:
«В современных капиталистических странах-система регулирования народного хозяйства со стороны государственной власти, возглавляемой представителями крупного финансового капитала. Это регулирование хозяйственной жизни со стороны государства особенно усилилось во время империалистической войны, когда государственной властью были взяты под контроль потребление, цены, сбыт, а отчасти и само производство. По такому пути пошла сначала Германия, а за ней и другие страны ».
«Государственный капитализм - хозяйство, ведущееся государством либо совместно с частным капиталом, либо для него, но на принципах капиталистического предпринимательства».
И к этому можно добавить, что чем успешнее страна воевала за колонии, тем эффективнее могла стабилизировать ситуацию у себя. Хотя такая задача не всегда и стояла. Где было возможно, там просто подавляли восстания, а вот где надо было действовать помягче, то уж приходилось тратить ресурсы на социальную сферу. И этот компромисс, как можно понять, слишком далеко все же не зайдет и является временной мерой.
Итого мы имеем: при государственном капитализме классовое общество, где господствует буржуазия, действуют рыночные законы (есть биржа и др. финансовые учреждения) и есть частная собственность на средства производства. В действительности многие «левые» считают, что все это было в СССР, и далее стоит рассмотреть доказательства.
«Левые» критики СССР
Сразу же надо отметить, что многие люди используют примитивные параллели вроде того, что раз при капитализме есть нечто, которое есть в СССР (например, зарплата), то это означает только то, что в СССР капитализм. Замечая некоторые сходства, они игнорируют принципиальные различия в способе производства, то есть игнорируют социальную основу конкретной формации. Таким методом действительно можно «доказать», что в СССР был феодализм или даже рабовладельческое общество, что свидетельствует только о том, что человек не готов исследовать проблему и, в общем-то, просто таким образом демонстрирует личную неприязнь к СССР.
Этим, естественно, все не ограничивается. Дискуссии о природе Советской России (СССР) начались сразу же после революции. Некоторые индивиды, о которых Ленин писал в книге «Детская болезнь левизны в коммунизме», довольно быстро заговорили о «диктатуре партии над пролетариатом». Они, естественно, обвиняли СССР в том, что коммунизм не установился в одночасье; в том, что советское руководство не реализует сомнительные идеи вроде ликвидации тюрем, армии.
Одним из первых, кто привел параллели между капитализмом и рабочим государством, был Антон Паннекук. Он заявил, что в действительности СССР не является рабочим государством постольку, поскольку управляет всем не рабочий класс, а партия. Такая ребяческая позиция вызвана тем простым фактом, что Паннекук игнорирует тот момент, что все-таки управляет государством класс, а не политическая партия, которая выражает интересы того или иного класса. В интересах какого класса выступала партия большевиков? Если верить сторонникам госкапа, то большевики, уничтожая рыночные отношения, частную собственность на средства производства, включая нерыночные механизмы и организовывая советское хозяйство, на самом деле выступали в интересах капитализма, уничтожая попутно его социальные основы.
Такие противоречия не кажутся странными лицам вроде Паннекука, потому что в их идеальной картине обществом должны управлять вообще все, иметь равные права и возможности. И если есть группа компетентных работников, которые действительно могут управлять, то это означает только то, что эти лица являются эксплуататорским классом. Такая вот логика у «левых коммунистов».
В идеале рабочий класс должен сразу взять власть и все устроить так, как пожелает. Что из этого выйдет, сложно представить. По всей видимости, за основу леваки берут некие децентрализованные общины анархистов или нечто вроде этого. При этом игнорируется враждебное окружение, которое, очевидно, навряд ли обрадуется таким переменам; а также прогресс производства, который невозможен в подобных условиях, так как если создавать децентрализованную модель по всем «нормам» утопистов, то это будет возврат к натуральному хозяйству и первобытному обмену.
Практика подобных движений – экономизм и хвостизм. Ультралевые фразеры выступали против СССР, участвовали в любых рабочих протестах и не выдвигали никаких особых требований. Результаты их деятельности налицо. А смысл их существования вообще не ясен, потому что они считают, что рабочий класс должен сам себя освободить, не нужно приносить научный социализм в пролетарскую среду, поскольку он там якобы «в силу естественных причин» и так присутствуют. Есть «естественная личность», которая в силу опять же естественных причин сама все осознает и сама же организует так, как нужно, и сделает это правильно.
Для чего в таком случае нужен марксизм? Да ни для чего. Тем более что теперь в качестве страшилки эти люди будут использовать мифы о революции и сталинских репрессиях; что если партия будет руководить революционным процессом, то опять все механически повторится. Поэтому партия, как выразитель классовых интересов, где состоят наиболее компетентные и авторитетные люди, после революции вообще не нужна. Это так называемая махаевщина, только почему-то все эти лица продолжают себя ассоциировать с марксизмом, а не с анархизмом.
Несмотря на то, что такие люди чаще всего заявляют, что именно они «истинные марксисты», на деле все обстоит не так. Маркс по поводу теории и глупой практики левых фразеров:
«с 1852 г. я не связан ни с каким объединением и что я глубоко убежден в том, что мои теоретические работы приносят больше пользы рабочему классу, чем участие в объединениях, время для которых на континенте миновало. После этого в лондонской газете «Neue Zeit» г-на Шерцера не раз помещались резкие нападки на меня за эту «бездеятельность»; хотя мое имя и не упоминалось, но было совершенно ясно, о ком идет речь. Когда Леви приехал (в первый раз) из Дюссельдорфа - он и тебя тогда часто посещал, - он вздумал даже соблазнять меня обещанием поднять восстание фабричных рабочих в Изерлоне, Золингене и т. д. Я резко высказался против такого бесполезного и опасного безумства».
Без развития теории о марксизме говорить не стоит. Авантюры ультралевых никогда еще не приводили к сколько-нибудь положительным результатам, о которых можно говорить как о примере удачной борьбы с капитализмом. Наоборот, левые «отрицатели» государства и прочие болтуны, которые нападали на СССР, часто считались популярными интеллигентами в капиталистических странах.
Есть еще «марксисты-ленинцы», которые утверждают, что Ленин сам признавал, что в СССР государственный капитализм (начальный период НЭПа), а поэтому в СССР только и был капитализм. В качестве подтверждения чаще всего используется высказывание Ленина - «Мы отступили к государственному капитализму» .
Однако данное высказывание используется не полностью. А вот тут и смысл несколько другой:
«Мы отступили к государственному капитализму. Но мы отступили в меру. Мы отступаем теперь к государственному регулированию торговли. Но мы отступаем в меру. Есть уже признаки, что виднеется конец этого отступления, виднеется не в слишком отдалённом будущем возможность приостановить это отступлении».
Как видно, это просто фальсификация, рассчитанная на людей, которые не будут проверять. И Ленин прямо утверждает, что отступление навряд ли будет долгим, оно необходимо в период восстановления после гражданской войны.
Основные государственные деятели того периода также подтверждали, что государственный капитализм имеет место. Однако надо помнить, что в период НЭПа была буржуазия, были иностранные концессии, совместные предприятия и кооперативы. В общем, был частный капитал. Подобные элементы действительно играли существенную роль в экономике страны, и для партии НЭП – вынужденное решение, поскольку международной революции не было, а страна отсталая. Не говоря уже о враждебном окружении (интервенции), гражданской войне и о том факте, что противников советской власти было еще очень много.
Попытка стабилизировать экономику таким образом в конечном итоге ни к чему не привела. Стране нужна была индустриализация, а НЭП, особенно в последние годы, лишь усиливал влияние буржуазии и кулаков, которые спекулировали на хлебных ценах, пытаясь подчинить государство, то есть заставить государство выступать в их интересах, а не в интересах рабочего класса.
В результате пришлось силой изымать продукт, ликвидировать кулаков и буржуазию как класс, уничтожать все формы частного капитала. И этот момент, как будто «незначительный», обходят стороной. Связано это с тем, что СССР рассматривается примитивно, нет разделения на исторические отрезки. А ведь есть большая разница между тем же НЭПом и периодом раскулачивания, коллективизации и индустриализации. Ссылки на Ленина в начальный период НЭПа в данном случае навряд ли представляют хоть какую-то актуальность. После ликвидации НЭПа просто не оставалось капиталистических хозяйственных форм.
Так что лица, утверждающие, что в период НЭПа был государственный капитализм, отчасти правы, хотя там был и не только государственный капитализм, но уже и принципиально антикапиталистические элементы, поскольку вместе с капиталистическим хозяйством было и советское. То же можно сказать и о перестройке, когда советское хозяйство ликвидировалось. Но разве можно говорить о государственном капитализме в остальное время существования СССР? Критики игнорируют период полной национализации промышленности и отказа от совместных предприятий, то есть как раз элементов государственного капитализма.
Не менее интересны аргументы вроде того, что социализм – новая общественная формация, где отсутствует государство. А раз в СССР есть государство, то значит и нет нового общества. Критики, таким образом, приходят к выводу, что в СССР был капитализм. Это связано с тем, что они, во-первых, не знают, что такое капитализм, во-вторых, не изучили марксистскую теорию о переходном периоде.
Переходный период
Классики научного коммунизма никогда не утверждали, что с установлением диктатуры пролетариата в тот же миг наступит социализм. В первую очередь нужно разрушить основы капиталистического способа производства:
«дело идет не об изменении частной собственности, а об ее уничтожении, не о затушевывании классовых противоречий, а об уничтожении классов, не об улучшении существующего общества, а об основании нового общества».
Понимают ли краснобаи, что значит основание нового общества? Да, речь идет о переходном периоде от капитализма к коммунизму. Теорий на этот счет достаточно много. Кто-то называет это переходным периодом, кто-то рабочим государством, кто-то социализмом. Но путь ясный: в первую очередь отмена частной собственности на средства производства, прогрессивные преобразования, обеспечение материальных и культурных потребностей общества. В условиях войны с мировой капиталистической системой и нехватки ресурсов приходится идти на компромиссы, в частности с мелкой буржуазией в лице крестьянства. В определенном смысле капиталистические элементы сохранялись, однако они соответствовали интересам господствующего класса – пролетариата.
Маркс о таком периоде писал:
«Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата» .
Как можно заметить, Маркс использует слово государство, он ни в коем случае не выступает за мгновенную отмену вообще всякого государства сразу после социальной революции. Именно рабочее государство, или переходный период, в данном случае – марксистское определение.
Сам процесс зависит от множества факторов. Но естественно, что ситуация, которая сложилась в мире в период пролетарской революции 1917 года, явно дала понять, что революцию нужно защищать любыми способами, а со временем стало ясно, что мировая революция не свершится, нужно действовать самостоятельно, то есть строить общество нового типа в одной, отдельной взятой стране. Только мечтатели могут в такой ситуации надеяться на мгновенное установление коммунизма, отмену государства и проч.
Речь идет о классовой диктатуре, когда государство выступает в интересах рабочего класса, способствуя ликвидации частнособственнических отношений. Лица, говорящие о «диктатуре партии» или, например, «диктатуре вождей», просто не понимают, что такое класс. Определение:
«Это большая группа людей, отличающаяся от других групп по своему – господствующему – месту в исторически определенной системе общественного производства, тем самым по отношению к средствам производства, по своей – организующей – роли в общественной организации труда, а следовательно, по способу получения и размерам той – непомерной – доли общественного богатства, которой она располагает».
И тут ключевой момент. В интересах работало советское правительство? Отменяя рыночные механизмы, ликвидируя социальные основы капиталистического способа производства, экспроприируя экспроприаторов, можно все-таки считать, что это государство не выступало в интересах буржуазии. Следовательно, поскольку сохранялся класс – государство отстаивало интересы пролетариата, что было заметно хотя бы даже по преобразованиям, которые были реализованы в первые годы советской власти. Надо отметить, что многие социальные проекты, которые сегодня воспринимаются как данность, впервые были введены именно в СССР, и уже только потом из-за угрозы социальной революции капиталистам пришлось вводить аналогичные реформы в своих странах (правда, они были непоследовательными). Право на работу, жилье (бесплатное), разного рода детские учреждения и проч. социальная сфера была именно «открытием» в СССР, то есть в обществе, которое сегодняшние капстраны представляют как империю зла.
Самое важное, что этот процесс, когда СССР бурно развивался, то есть в период индустриализации, основная цель заключалась в том, чтобы не быть придатком мирового капиталистического хозяйства, то есть исключить те недостатки, которые были в период НЭПа. И эта задача была решена, что говорит о том, что СССР получилось стать силой, способной противостоять мировому капиталу, быть альтернативой для многих стран.
Но и тут господа «левые коммунисты» полагают:
«Какие процессы изменили ситуацию после XIII съезда РКП(б)? Никакие! Индустриализация и кооперирование прошли во всех развитых странах, механизировав производство и укрупнив хозяйственные единицы. Но при чем здесь социализм?».
То есть если индустриализация проходила в капиталистических странах, то это значит, что в СССР – капитализм, несмотря на то что в капиталистических странах индустриализация проводилась в интересах капиталистов, тогда шел процесс пауперизации, а в СССР индустриализация целиком и полностью отвечала интересам пролетариата. В первом случае важна прежде всего рентабельность, во втором она не имеет никакого значения вообще. Но это, видимо, мелочь. Как можно заметить, примитивные аналогии здесь ключевое доказательство. Хотя смотреть надо на социальные основы общества.
Проблема Г. к. недостаточно изучена в сов. ист. и экономич. науке. Г. к. в домонополистич. период привлекая внимание ученых в осн. в плане предыстории гос.-моноиолистич. капитализма. Развитие Г. к. в странах, освободившихся от колониальной зависимости, вызвало интерес к Г. к., как к явлению, к-рое и в прошлом в разные ист. эпохи получало значит. распространение в нек-рых, обычно экономически отставших странах. Обобщающих работ по проблеме Г. к. нет. При многообразии форм проявления Г. к. сов. историки и экономисты не пришли еще к единому определению Г. к. Наиболее общие признаки различных по форме проявлений Г. к. (периода становления и развития капитализма) могут быть сведены к двум главным: широкое гос. вмешательство в экономику и непосредственная хоз. деятельность гос-ва как наиболее действенное проявление такого вмешательства. Г. к. в узком смысле охватывает, во-первых, гос.-капиталистич. собственность, от эксплуатации или сдачи в аренду к-рой гос-во само извлекает капиталистич. доходы (прибыль, зем. ренту); во-вторых, выполнение гос-вом других хоз. функций, к-рые используются гос-вом для развития или укрепления как гос. собственности, так и частных капиталистич. предприятий. Гос.-капиталистич. собственностью являются гос. предприятия (пром., транспортные, торговые, воен.), средства связи (почта, телеграф, радио), гос. банки, гос. земли, недра, леса и т. п. Не относятся к гос.-капиталистич. собственности такие гос. имущества, к-рые не участвуют в капиталистич. воспроизводстве и не могут являться источниками капиталистич. доходов, а служат только для выполнения воен., адм., карательных, культурных функций гос-ва: воен. сооружения, разного рода вооружение и прочее воен. имущество, адм. здания, тюрьмы, школы и больницы и т. п. Однако сооружение или приобретение таких имуществ, т. е. гос., воен. и т. п. заказы, закупки и подряды относятся к хоз. деятельности гос-ва. К ней же относятся субсидии частным предприятиям и др. формы их гос. финансирования, участие гос-ва в управлении частными предприятиями и т. п. Г. к. в широком смысле, помимо всего перечисленного, охватывает и все др. проявления гос. вмешательства в экономику: протекционизм и др. формы регулирования внеш. торговли, регулирование рынка труда и фабричное законодательство, предоставление отд. капиталистам и компаниям пром. и торг. монополий, ограничение конкуренции или "свободы" учредительства законодат. и адм. мерами, надзор и регламентацию хоз. деятельности частных капиталистич. предприятий. Т. о., под Г. к. в широком смысле следует понимать систему отношений между капиталистич. х-вом и гос-вом, складывающуюся на почве многостороннего гос. вмешательства в экономику, к-рое выражает обратное воздействие политич. надстройки на социально-экономич. развитие и направлено на ускорение развития капитализма и его укрепление. Многостороннее гос. вмешательство в экономику и развитие Г. к. в узком смысле слова было характерно для стран Зап. Европы в период становления капиталистич. уклада, а в период домонополистич. капитализма для тех гос-в, к-рые позднее вступили на путь капиталистич. развития, сохраняя значит. крепостнич. пережитки в экономике и социально-политич. строе (Россия, Япония); в наст. время оно характерно для экономич. развития б. колониальных и зависимых стран. Г. к. обусловлен недостаточностью капиталистического развития и слабостью формирующейся буржуазии. Социально-политич. значение Г. к. в разные ист. периоды в отд. странах неодинаково и определяется клас. природой данного гос-ва. Совершенно особую, принципиально отличную от Г. к. в предшеств. период, природу имеет Г. к. в переходный период от капитализма к социализму. "В капиталистическом государстве государственный капитализм означает, что он признается государством и контролируется им на пользу буржуазии и против пролетариата. В пролетарском государстве то же самое делается на пользу рабочего класса, с целью устоять против все еще сильной буржуазии и бороться против нее" (Ленин В. И., Соч., т. 32, с. 467). Г. к. в странах Западной Европы. Период зарождения и формирования капиталистич. уклада характеризуется весьма активной ролью феод.-абсолютистского гос-ва в первоначальном накоплении. Гос-во активно участвует в экспроприации мелких производителей и создании армии наемного труда, способствует образованию капиталов формирующейся буржуазии путем торг. войн, организованного колониального грабежа, осуществляемого монопольными торг. компаниями (особенно в Нидерландах и Англии), особых мер протекционистской внеш. торг. политики (см. Меркантилизм), посредством мер, усиливающих эксплуатацию зарождающегося пролетариата "Кровавое законодательство против экспроприированных" в Англии и др.). Гос-во активно насаждает капиталистич. пром-сть, предоставляя мануфактуристам ссуды, субсидии, вывозные премии, дешевую рабочую силу из тюрем и работных домов и пр. Гос-во само становится крупным предпринимателем, организуя как феод. владелец горнорудных земель горные заводы, для воен. нужд - оружейные, пороховые и др. мануфактуры, а при недостатке частной инициативы - также шерстяные, шелковые, фарфоровые и др. (напр., "королев. мануфактуры" во Франции при Кольбере). Г. к. в узком смысле был характерен для Франции (до кон. 18 в.), Австрии, Пруссии и др. герм. гос-в (до 1-йчетв. 19 в.). При всей противоречивости воздействия феод.-абсолютистского гос-ва на экономику интенсивное гос. вмешательство объективно сыграло значит. роль в ускорении формирования капиталистич. уклада. С победой капиталистич. способа произ-ва непосредств. гос. вмешательство в экономику в целом резко сокращается. Окрепшая буржуазия выступает против остатков феодализма, включая и все виды гос. "опеки" и отстаивает неогранич. "свободу" капиталистич. эксплуатации и конкуренции, исключающей поддержку отд. предприятий или узких групп капиталистов. Роль гос-ва в представлении буржуазии должна сводиться к охране устоев капитализма и общих условий, благоприятствующих его развитию (пути сообщения, средства связи, поддержание устойчивого ден. обращения и т. п.) и к защите внешнеэкономич. позиций "отечеств." буржуазии. Она, как исключение, выступает за "свободу торговли" (напр., в Англии в 19 в.) и почти всегда за таможенную защиту от иностр. конкуренции. Сохраняется внешнеэкономич. значение гос-ва и в эксплуатации колоний (с устранением монополий торг. компаний), и в воен. грабеже (напр., огромная франц. контрибуция, ускорившая рост герм. капитализма с 70-х гг. 19 в.). Под воздействием борьбы рабочего класса гос-во вынуждено вмешаться в "свободу" капиталистич. эксплуатации - стать на путь нек-рого ограничения наиболее грубых ее форм, ввести фабричное законодательство, а позднее - гос. страхование рабочих при несчастных случаях, болезнях и т. д. Старые гос. предприятия сохраняются в отд. случаях и в период капитализма (больше всего воен. з-ды), но и они постепенно теряют свое прежнее значение. Нерасхищенные в период первоначального накопления гос. земли, недра, леса и т. п. становятся источником рентного дохода, а эксплуатация их передается капиталистам. Новые, свойственные периоду домонополи-стич. капитализма проявления Г. к. связаны преим. с развитием парового транспорта, новых видов связи, а также гор. благоустройства. Известной финанс. поддержки и регулирования со стороны гос-ва потребовали строительство и эксплуатация ж. д. Иногда гос-во было вынуждено само сооружать нерентабельные дороги или выкупать их при несостоятельности частных ж.-д. обществ. Гос-во поддерживает крупные мор. пароходства, само, как правило, организует и эксплуатирует телеграфно-телефонную связь, его местные органы поддерживают или сами ведут предприятия по гор. благоустройству (освещение, водопровод, гор. транспорт). Известные привилегии от гос-ва получают центр. эмиссионные банки, к-рые, однако, до 20-х гг. 20 в. во всех странах Зап. Европы (кроме Швеции) остаются частными акц. об-вами, подчиненными надзору гос-ва. Особым видом гос. предприятий являются т. н. фискальные монополии, закрепляющие за гос-вом торговлю такими предметами массового потребления (спирт, табак, спички), к-рые облагаются крупными косв. налогами (акцизом). В целом Г. к. в прямом смысле имел в 19 в. и еще в нач. 20 в. слабое распространение, особенно в тех странах, где в результате бурж. революций были ликвидированы все остатки крепостничества. Наибольшее распространение в Западной Европе Г. к. в домонополистич. период получил в 70-80-х гг. 19 в. в Германии. Здесь насту-пат. протекционизм и гос. страхование рабочих, проведенное Бисмарком, сочетались с огосударствлением прус. ж. д. и осуществлением табачной монополии. Огосударствление в то время не вызывалось достигнутым уровнем капиталистич. развития Германии, прямой экономич. необходимостью, а проводилось из политич. и финанс. соображений, служило укреплению реакц. прус.-герм, гос-ва с его неизжитыми остатками феод. порядков к В. от Эльбы (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 27, 1935, с. 6-7). С развитием общего кризиса капитализма гос. вмешательство в экономику чрезвычайно разрастается, гос-капиталистич. собственность и вся непосредств. хоз. деятельность гос-ва приобретают в империалистич. странах небывалый размах. При этом и гос. вмешательство в экономику и непосредств. хоз. деятельность гос-ва получают принципиально новое содержание, основывающееся на соединении силы монополий с силой гос-ва в единый механизм. См. Государственно-монополистический капитализм. Г. к. в России. В период зарождения и формирования в России капиталистич. уклада внутри старой феод.-крепостнич. формации гос. вмешательство в экономику было значительным, но, в отличие от Запада, не сыграло существ, роли в ускорении формирования нового уклада. Расширение границ гос-ва в юж. и вост. направлениях вело к росту вширь феод.-крепостнич. отношений, укреплению их в центре страны и к огромному росту феод.-крепостнич. гос. собственности. Начатое в кон. 17 в. и особенно развернутое Петром I насаждение крупной мануфактурной пром-сти привело к созданию гос. предприятий, основанных на принудит, труде. Гос. поддержка частных горных з-дов, суконных, полотняных и др. мануфактур выражалась не столько в финанс. помощи, сколько в предоставлении им гос. земель, зданий и т. п., а главное - в закреплении за ними крепостной рабочей силы. По сравнению с этим капиталистич. мануфактуры, выраставшие на базе мелкого произ-ва, пользовались незначит. гос. поддержкой. Огромные зем. владения и пром. предприятия гос-ва, а также особо поддерживаемые частные уральские и др. горные з-ды сохраняли феод.-крепостнич. природу вплоть до реформы 1861. К гос.-капиталистич. предприятиям могут быть отнесены лишь дореформ. гос. банки, но и они использовались крепостиич. гос-вом в интересах укрепления старой формации (см. Банки в дореволюционной России). После 1861, в период домонополистич. капитализма, Россия, в противоположность Западу, становится страной с весьма развитым гос.-капиталистич. х-вом. В новых условиях царизм, в целях сохранения власти, доходов и привилегий помещиков, был вынужден проводить политику, благоприятствовавшую развитию капитализма. Но при задерживающем влиянии крепостнич. пережитков общие меры экономич. политики, включая протекционизм, были недостаточны. Пр-во должно было встать на путь форсирования экономич. развития страны, опираясь на Г. к. и широко используя методы гос. вмешательства в экономику. Унаследованные от крепостнич. периода казенные земли, недра, леса, горные и воен. заводы стали гос.-капиталистич. собственностью, к-рая значительно расширилась за счет ж.-д. строительства и х-ва. Вместо ликвидированных дореформ. банков был создан Государственный банк России - центральный, с 90-х гг. - эмиссионный банк страны. В 80-х гг. были учреждены гос. земельные банки, Дворянский и Крестьянский, имевшие решающее значение в области ипотечного с.-х. кредита. В 90-х гг. в интересах внешнеэкономич. экспансии были созданы в форме частных акц. об-в фактически правительственные Русско-Китайский банк, Учетно-ссудный банк Персии, позднее Монгольский банк. Россия отличалась многосторонним гос. вмешательством в экономику, правительств, "надзором" за учреждением и деятельностью крупных предприятий и особенно банков. Бурж. "свобода" предпринимательской деятельности ограничивалась законодат. и адм. актами и экономич. мерами. Гл. объект форсированного развития капиталистич. экономики в пореформ. период - ж.-д. строительство (ведущее в условиях России звено капиталистич. индустриализации). Оно могло практически осуществляться только за счет иностр. капиталов. Привлечение же их было возможным только при непосредств. участии пр-ва. Формально до кон. 80-х гг. преобладало частное Ж.-д. строительство и х-во, однако гос. Помощь ему, в отличие от Запада, достигала таких огромных размеров, что вылилась по существу в широкое и решающее участие гос-ва в частных ж. д. В конце 80-90-х гг. преобладающая доля частных ж. д. перешла в собственность гос-ва и значительно расширилась за счет строительства казенных дорог в Сибири и Ср. Азии. Располагая огромным ж.-д. х-вом, тратя больше, чем любая в то время страна, средств на военные цели, Росс, гос-во было крупнейшим потребителем продукции ряда отраслей тяж. пром-сти. Вмешательство гос-ва в экономику, гос.- капиталистич. х-во широко использовалось для форсирования развития новых отраслей тяж. пром-сти (транспорт, машиностроение, сталелитейные рельсовые предприятия, воен. з-ды - в 60-70-х гг., юж. металлургия - в 90-х гг.). Новым предприятиям тяж. пром-сти с кон. 60-х до 90-х гг. предоставлялись многолетние заказы по завышенным ценам, выплачивались премии, что обеспечивало им устойчивый сбыт и покрытие повышенных издержек по освоению новой продукции, а сверх этого "достаточную" прибыль. Источником значит. части капиталов этих предприятий были долгосрочные авансы и ссуды из средств казначейства и Гос. банка. Во время кризисов, депрессий, хоз. затруднений гос-во широко финансировало пошатнувшиеся предприятия и банки, включалось в управление ими, выкупало их, нередко продавая затем капиталистам на льготных условиях. Система Г. к. в России приводила к обогащению поддерживаемых государством групп крупной буржуазии и порождала прямую материальную заинтересованность влиятельных чиновников в "делах" буржуазии (см. Буржуазия в России). Объективно правительств, политика еще в домонополистич. период вела к усилению процессов концентрации в пром-сти и централизации капиталов в крупных банках, а с наступлением периода империализма - к ускорению процессов монополизации пром-сти, транспорта, банков. Первые синдикаты в России возникли в 80-х гг. 19 в. в особо покровительствуемых отраслях тяж. пром-сти при поддержке и частичном участии гос-ва. Во время кризиса 1900-03 и последующей депрессии пр-во активно способствовало организации синдикатов. Им были созданы гос.-капиталистич. органы, к-рые, действуя в тесном контакте с соответств. пром. монополиями, переросли в первые гос.-монополистич. орг-ции. Широкое развитие Г. к. в период развитого домонополистич. капитализма привело к таким (кроме указ. выше) формам отношений между гос-вом и капиталистич. х-вом - "борьба" с кризисами (и в 1873-76, и в 1900-03) методами непосредств. гос. вмешательства, воздействие теми же способами на ден. рынок и биржу, обогащение за счет гос. средств узких групп предпринимателей в особо покровительствуемых отраслях пром-сти и т. п., - к-рые на Западе возникли лишь после того, как монополистич. капитализм перерос в гос.-монополистический. Г. к. способствовал ускорению развития капитализма в стране, но процесс этот носил односторонний характер, не затрагивая крепостнич. пережитков в деревне, и углублял противоречия и неравномерность социально-экономич. развития страны. Несмотря на Г. к., Россия продолжала отставать от стран, где после бурж. революций домонополистич. капитализм развивался в условиях "свободной конкуренции". В России в домонополистич. период широко развернулись формы отношений между гос-вом и капиталистич. х-вом, к-рые стали характерными на Западе для периода общего кризиса капитализма. В социально-политич. отношении Г. к. в России выражал стремление царизма продлить ист. существование власти и экономич. привилегий крепостников-помещиков. Опираясь на Г. к., царизм пытался найти себе опору в капиталистич. развитии и в союзе с крупной буржуазией, а затем и с магнатами финанс. капитала. Близким к рус. варианту было развитие Г. к. в Японии. Здесь после революции 1867-68 развернулось широкое гос. строительство пром. предприятий, морск. флота, ж. д., телеграфа и т. д. (частный капитал в Японии устремился гл. обр. в торговлю и банковское дело). Однако с 1880 гос-во (сохраняя в своих руках предприятия по произ-ву вооружения и строя новые) приступило к широкой продаже (по крайне низким ценам) гос. предприятий частным предпринимателям; при этом отдавалось предпочтение неск. привилегированным фирмам. Частный капитал в Японии оказался тесно связанным со старым монархич. гос. аппаратом. И. Ф. Гиндин. Москва. Г. к. в бывших колониальных и зависимых странах. Возможность появления Г. к. возникла здесь только тогда, когда государственная власть была вырвана из рук иностранных империалистов. Поэтому явлением более или менее типичным для многих из этих стран (Г. к. получил наибольшее распространение в Индии, ОАР, Индонезии, Бирме и др.) Г. к. стал только после 2-й мировой войны, с возникновением десятков независимых гос-в в Азии и Африке (до войны Г. к. или его элементы возникли только в немногих странах, обладавших гос. независимостью и боровшихся за ее упрочение - в Турции, Афганистане, отчасти в Таиланде, в нек-рых лат.-амер. странах, особенно в Мексике). Г. к. в б. колониальных и зависимых странах существенно отличается от гос.-монополистич. капитализма и принципиально от Г. к. в социалистич. странах (в переходный период от капитализма к социализму). В б. колониальных и зависимых странах Г. к. порожден противоречием между их экономич. отсталостью и потребностью в ее быстрейшей ликвидации в интересах построения независимойэкономики.Г. к. отвечает коренным интересам нац. буржуазии, т. к. стремится разрешить это противоречие на путях капиталистич. развития. В то же время, поскольку он направлен на ликвидацию экономич. отсталости, укрепляет независимость и обнаруживает, следовательно, определенную анти-империалистич. направленность, постольку он в значит. мере отвечает нуждам народа. Исходной материальной основой Г. к. являются перешедшие в собственность гос-ва от б. колониальной администрации нек-рые средства произ-ва: ж. д., гидроэнергетич. и ирригац. сооружения, порты, ряд пром. предприятий, плантаций и т. д. Дальнейший рост гос. собственности, ведущий к образованию гос. сектора в экономике, происходит за счет расширения существующих и строительства новых объектов (этот путь типичен, в частности, для Индии), а также национализации иностр. собственности (националиаация голл. каучуковых плантаций в 1958 и др. в Индонезии, национализация компании Суэцкого канала в 1956 в Египте), а иногда и ряда местных частнокапиталистич. предприятий (особенно в ОАР, где в 1961-1962 в руки гос-ва перешли все банки, страховые компании, б. ч. фаб.-зав. предприятий). Большое значение в экономия, жизни имеет установление правительств, контроля над кредитно-финанс. и торг. орг-циями. В Бирме с первых дней независимости была установлена монополия пр-ва на внеш. торговлю рисом и др. важными товарами. Управление гос. предприятиями осуществляется соответств. мин-вами или самостоят. учреждениями со спец. уставом (в Турции эту роль выполняют т. н. госбанки: Сумербанк, Этибанки др.), либо акц. компаниями, подконтрольными и принадлежащими пр-ву. В Индии на 1961 насчитывалось 140 гос. акц. компаний с оплаченным капиталом в 3,5 млрд. рупий или 1/3 всего капитала всех акц. компаний страны. Особенно важным проявлением Г. к. становятся планы экономич. развития. Планирование имеет место почти во всех молодых суверенных гос-вах, но наибольшее развитие получило в Индии. Одна из центр. задач 5-летних планов Индии-индустриализация страны путем создания ряда крупных металлургич., маш.-строит, и др. гос. предприятий. Большую помощь в создании мн. экономич. объектов в гос. секторе молодых суверенных гос-в оказывают СССР и др. социалистич. страны. Империалистич. гос-ва, стремясь сохранить экономич. зависимость слаборазвитых стран, выступают против Г. к. в этих странах (не скрывая своих симпатий к частнокапиталистич. предпринимательству), стремятся ограничить сферу его действий и поставить его себе на службу. Гос-во, выполняя волю имущих классов, оказывает помощь частным предпринимателям (субсидиями, тамож. протекционизмом и т. п.). В Индии и нек-рых др. странах сферы деятельности гос. и частного секторов разграничены законодат. путем и установлен известный правовой контроль над частнокапиталистич. предпринимательством (особенно сильный в О АР). В целом, однако, развитие Г. к. на данном этапе не противоречит частнокапиталистич. предпринимательству. Г. к. - не статичное явление, он развивается и видоизменяется. Примером этому может служить Г. к. в Турции (см. Этатизм). Прямая связь экономики и политики в эволюции Г. к. видна на примере нейтралистских гос-в, с одной стороны, и стран, входящих в агрессивные блоки,- с другой. В первых Г. к. более развит, охватывает больше отраслей нар. х-ва и способствует укреплению суверенитета, во вторых Г. к., как правило, очень хил, ограничен иностр. монополиями и местной реакц. частью имущих классов, его антиим-периалистич. потенции не могут проявиться. Судьба Г. к. зависит от всего хода политич. и в первую очередь клас. борьбы в той или иной стране. Борьба прогрессивных сил за построение гос-ва нац. демократии, за вступление на путь некапиталистич. развития создает условия для расширения сферы деятельности Г. к. и открывает возможности изменения его характера: гос. сектор может стать в этих условиях важным средством подготовки некапиталистич. развития. A. И. Лесковский. Москва. Г. к. в переходный период от капитализма к социализму. Вопрос о сущности Г. к. в переходный период впервые был теоретически разработан Лениным. Является одним из обществ.-экономич. укладов, к-рый допускается и регулируется пролетарским гостом в интересах рабочего класса. Возникает после завоевания гос. власти рабочим классом, национализации осн. средств произ-ва и обращения. Границы Г. к. устанавливает пролет. гос-во, использующее средства и знания буржуазии для восстановления и развития производит. сил страны, строящей социализм. Ленин определил след. формы Г. к. в переходный период: концессии иностр. капитала, аренда гос. предприятий внутр. частным капиталом, смешанные акц. об-ва в сфере произ-ва и обращения, торговля на комиссионных началах. Все эти формы существовали в СССР (см. Акционерные общества, Концессии). Особенность Г. к. в СССР состояла в том, что он не только находился под контролем пролет. гос-ва, но ив том, что гос.-капиталистич. предприятия оставались об-щенар. собственностью. Предприятия, передававшиеся в аренду иностр. и росс, капиталистам, не были обычными капиталистич. предприятиями, поскольку Сов. гос-во оставалось их собственником. "Арендатор не есть собственник, - писал В. И. Ленин. -...Аренда - договор на срок. И собственность и контроль за нами, за рабочим государством" (Соч., т. 35, с. 418). Капиталист работал как контрагент, как арендатор социалистич. средств произ-ва. Собственностью концессионера-арендатора оставался только оборотный капитал (сырье, готовая продукция, ден. средства). Осн. же фонды (здания, оборудование), не только переданные Сов. гос-вом капиталисту, но и завезенные либо вновь построенные последним, не составляли его собственности, не продавались и не передавались др. лицу. Т. о., гос.-капиталистич. предприятие в переходный период сочетало частную собственность капиталиста (оборотный капитал) и обще-нар. собственность (осн. фонды, земля). Отношения между капиталистами и рабочими были отношениями наемного труда и капитала, рабочая сила являлась товаром. Противоположность клас. интересов сохранялась, происходила клас. борьба, но ее формы, условия коренным образом изменились в пользу рабочего класса. Г. к. был своеобразной формой сотрудничества с отд. группами иностр. и внутр. капиталистов на основе признания суверенитета Сов. гос-ва, национализации земли, пром-сти, транспорта, монополии внеш. торговли, юрисдикции сов. судов, сов. законов о труде, социальном обеспечении, сов. тарифной, таможенной политики. На иностр. и внутр. капиталистов распространялся непосредств. контроль пролет. гос-ва. Пролет. гос-во использовало Г. к. как переходную форму х-ва для ограничения развития частного капитала, для укрепления крупного произ-ва, для обуздания мелко-бурж. стихии и укрепления плановой экономики, усиливало "...государственно- упорядоченные экономические отношения в противовес мелкобуржуазно-анархическим" (там же, т. 32, с. 325). Г. к. не получил в СССР сколько-нибудь значит. развития и занимал в экономике весьма незначит. место, что было связано гл. обр. с быстрыми темпами развития крупн. социалистич. пром-сти. Удельный вес его в валовой продукции нар. х-ва в 1923-24 составил лишь 0,1%. В дек. 1925 на иностр. концессиях было занято всего 50 тыс. рабочих, на арендованных предприятиях - 35 тыс., т. е. в целом примерно 1% всех рабочих в стране. К нач. 2-й пятилетки гос.-капиталистич. уклад в СССР перестал существовать. Г. к. как средство преобразования капиталистич. собственности в социалистическую используется в переходный период также в ряде других социалистических стран (при преимущественном росте государственного сектора, занявшего ведущее положение в экономике). Социалистическое государство осуществляет здесь руководство капиталистич. сектором в целях постепенного преобразования через различные формы Г. к. капиталистич. частной собственности в социалистическую общенародную собственность. Основными формами Г. к. в КНР в 1950-55 являлись: закупка гос-вом готовой продукции у частных предпринимателей, посредничество частного капитала в реализации товаров гос. торг. предприятий и выполнение отд. поручений гос. торг. орг-ций, переработка частными предприятиями сырья и полуфабрикатов гос. предприятий с выполнением их заказов на готовую продукцию. Эти формы Г. к. получили назв. первичных. В 1956 гос-во перешло к преобразованию частных предприятий в смешанные государственно-частные предприятия по отраслям (высшая форма Г. к.). Сплошное поотраслевое преобразование капиталистич. пром-сти стимулировалось тем, что к кон. 1955 частная пром-сть по стоимости продукции была уже более чем наполовину преобразована в смешанную гос.-частную, а остальная часть капиталистич. пром-сти была на 82% охвачена первичными формами Г. к. После осуществления поотраслево-го преобразования частных пром. предприятий в смешанные гос.-частные, завершившегося в основном в течение 1956, государство в течение определенного срока выплачивает капиталистам фиксированный процент (из расчета 5% годовых с суммы частного пая). Фиксированный процент является формой выкупа средств произ-ва у нац. буржуазии. В ДРВ до 1958 применялись преимущественно первичные формы Г. к.; в 1958 появились и стали быстро развиваться смешанные "foc.-частные предприятия; уже в 1960 почти все частные пром. и торг. предприятия были преобразованы в смешанные гос.-капиталистические. Г. к. получил известное распространение и в такой экономически развитой стране, как ГДР, где также проводится политика использования частнокапиталистич. элементов (преим. собственников мелких и средних предприятий), ограничения их эксплуататорского характера и постепенного социалистич. преобразования путем различных форм Г. к. Если в 1956 доля гос-капиталистич. сектора в совокупном обществ. продукте ГДР составляла всего 0,2% (доля частнокапиталистич. 25,2%), то в 1958 - 2,5%, в 1961-6,4% (доля частнокапиталистического сектора сократилась в 1961 до 8,7%). А. Я. Левин. Москва (Г. к. в СССР). Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, M., 1955, гл. 24; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 20, с. 288-89; его же, Развитие социализма от утопии к науке, там же, т. 19, с. 221-22; его же, Социализм г-на Бисмарка, там же; его же. Протекционизм и свобода торговли, там же, т. 21; его же, (Письмо В. Бракке 30 апр. 1878), Соч., т. 27, Л., 1935, с. 5-7; его же, (Письмо Н. P. Даниельсону 10 аир. 1879), там же, с. 32-33; Ленин В. И., Грозящая катастрофа и как с ней бороться, Соч., 4 изд., т. 25; его же, Доклад об очередных задачах Сов. власти, там же, т. 27; его же, О продовольств. налоге, там же, т. 32; Кулишер И. М., История экономии, быта Зап. Европы, 7 изд., т. 2, М.-Л., 1926; Гос. собственность в странах Зап. Европы, М., 1961; Певзнер Я. A., Монополистич. капитал Японии ("Дзайбацу") в годы второй мировой войны и после войны, М., 1950, гл. 1; Норман Г., Становление капиталистич. Японии, пер. с англ., М., 1952; 3енина Л. В., Развитие домонополистич. капитализма в Японии (70-90-е годы 19 в.), "Уч. зап. ЛГУ. Серия востоковедч.", 1954, вып. 4, No 179; Гиндин И. Ф., Гос. банк и экономия, политика царского пр-ва (1861 -1892 г.), М., 1960; Гос. капитализм в странах Востока (сб. ст.), М., 1960; Брагина Е. и Ульрих О., Гос. капитализм в пром-сти стран Востока, М., 1961; Васильев И. В., Гос. капитализм в совр. Бирме, М., 1961; Сеид-Гусейнов А. Г., Гос. капитализм в переходный период от капитализма к социализму, М., 1960; Захарова М. В., Ленинская теория гос. капитализма в переходный период и ее междунар. значение, "ВЛГУ", 1960, No 11; Васюнин М. К., О сущности гос. капитализма в переходный период от капитализма к социализму, "ВМГУ", сер. 8, экономика, философия, 1960, No 1; Левин А., О гос. капитализме в переходный период, "Вопр. экономики", 1962, No 5.
Концептуал СМИ Модель экономического роста или утопия?
Термин «государственный капитализм» достаточно распространён в экономической и политической литературе. При этом трактовка его присутствует в разнообразных значениях и в весьма широких форматах. Если попытаться их классифицировать, то можно выделить два основных толкования.
Во-первых, под госкапитализмом понимается общественный строй, в котором государственный аппарат управления страной сращивается с крупным капиталом и соответственно обеспечивает его хозяйственные и политические интересы. Такая трактовка госкапитализма породила направление в экономической мысли (часто называемое госкаповцы), которое считало, что экономика СССР, возникшая в 30-е гг. ХХ в. была именно такой моделью. Наиболее последовательно эту теорию обосновал английский теоретик марксизма Тони Клифф. В 1947 г. он написал книгу «Государственный капитализм в России», в которой утверждал, что возможен капитализм с одним капиталистом – государством. Клифф считал, что капитализм может существовать как частновладельческий, так и сверхмонополистический (где весь капитал принадлежит государству). Соответственно господствующим классом, который присваивает прибавочную стоимость, является высшая государственная и партийная номенклатура: крупные госчиновники, директора и администрация предприятий. Причём в отличие от частновладельческой модели капитализма, тут происходит присвоение не всей прибавочной стоимости, а лишь её части: основные капиталы остаются в обороте. Несмотря на то, что в данной теории госкапитализма содержится много весьма спорных умозаключений, она вполне естественно и логично объясняет лёгкость и быстроту перерождения советского строя в капитализм в 90-е гг. прошлого века.
Во-вторых, государственный капитализма понимается не с точки зрения сращивания государства и капитала, а с позиций его регулирующей роли и стремления власти взять под контроль крупный частный бизнес. Такое понимание связано с французским понятием этатизм (от франц. état – государство), которое рассматривает государство как высший результат и высшую цель общественного развития. Причём такое понимание оформилось не только теоретически, но широко использовалось в государственной практике. К примеру, этатизм утвердился в 30-х гг. ХХ в. в Турции после знаменитой революции К. Ататюрка в качестве официальной экономической доктрины. Её выражением стала политика национализации и опоры на национальный капитал. Как известно, именно это позволило Турции добиться бурного роста национальной экономики.

С точки зрения современного развития России трактовка понятия «госкапитализм» актуальна именно во втором его толковании, т.е. как этатизма. Эта актуальность видится, прежде всего, в том, что уже более чем 20-летнее развитие России в рамках идеологии laisse fair не обеспечили тех целей и задач, которые являлись экономическим оправданием разрушения советской системы. А именно: стратеги радикальной экономической реформы ставили задачу демонтажа советской системы, как непрогрессивной и тормозящей научно-технический прогресс, не способной обеспечить полное удовлетворение экономических потребностей населения и качественный рост уровня жизни. И с 1992 г. в России начался процесс перевода системы государственного хозяйственного управления из госплановского в аналог «ночного сторожа». Главными средствами «шоковой терапии» (данный термин только подчёркивал тяжесть заболевания экономики) стали приватизация и либерализация цен. С тех пор по данным Росстата государственная собственность в стране неуклонно сокращалась.

Так, по данным на 2009 г. общее число зарегистрированных фирм и организаций в стране распределялось по формам собственности (в %): государственная 2,8 (для сравнения в 1996г.–14,3); муниципальная –5,4(в 1996–8,8); частная российская –83,3 (в 1997 г. –63,4). В 2010 г. президент провозгласил курс на продолжение политики разгосударствления, т.е. лозунг «больше конкуренции» остаётся на повестке дня, хотя доказывать, что он не реализовал ни одну из заявленных в 1992 г. задач, кажется уже не надо.
Задача финансирования этих компаний частично возложена на фонды национального благостостояния (ФНБ). Они представляют собой государственные инвестиционные фонды с портфелями, состоящими из иностранных валют, государственных облигаций, недвижимости, ценных металлов, а также долей в уставном капитале отечественных и иностранных фирм (иногда они являются и их основными собственниками).
С учётом этого, вопрос о том, насколько перспективным может быть использование госкапитализма в современной экономической практике нашей страны, представляется весьма важным. И тут мы обнаруживаем, что этатизм – это явление абсолютно не новое для России. Во-первых, оно не новое в историко-философском понимании, т.к. особенностью и отличительной чертой отечественной истории с 9 в. и по 20 в. был как раз приоритет государственного начала. Во-вторых, оно имело успешную практическую апробацию. Как известно, наиболее впечатляющие экономические успехи в досоветской России происходили как раз с использованием идеологии государственного капитализма. Речь идёт о модернизации Витте С.Ю., который являлся министром финансов России в 1892-1903 и исполнителем масштабной программы индустриализации страны. Любопытно, что Витте очень близко принимал идеи панславизма и славянофильства, был хорошо знаком с Аксаковым И.С. и даже публиковался в его газете «Русь», что не помешало стать ему «отцом русского капитализма», как называли его современники. Это ещё одно доказательство того, что та дилемма, которая активно навязывается обществу: либо рыночная экономика по западным стандартам и прогресс, либо использование почвенных, национальных традиций и регресс, является весьма сомнительной.

Огромное влияние на экономические взгляды Витте оказала книга Фридриха фон Листа “Экономический национализм”, которую он перевёл на русский язык и написал к ней предисловие. Лист не был чистым теоретиком, он был скорее специалистом в области экономической политики. И это было очень близко российской экономической мысли, которая никогда не отличалась особым академизмом, а, напротив, являлась сугубо прагматической и утилитарной. Итак, Лист критиковал политическую экономию, считая, что она космополитична и не учитывает национальные хозяйственные особенности. В отличие от Смита, который был сторонником экономического либерализма, Лист прочно стоял на позициях протекционизма. Особенно он выделял необходимость стимуляции промышленного роста мерами «воспитательного протекционизма», т.е. защиты от иностранной конкуренции. И это опять же соотносилось с особенностями российских экономических учений. Даже самые радикально настроенные российские экономисты (к примеру, Радищев А.Н.) всегда подчёркивали, что отечественная экономика по самым разным причинам не может на равных конкурировать с европейской, а значит протекционизм – это важнейшее условие экономической политики в России.
Эти идеи Листа, а также свой талант Витте использовал в программе модернизации российской экономики, которая предполагала в течение примерно 10 лет: догнать более развитые в промышленном отношении страны Европы, занять устойчивые позиции на рынках Востока, привлечь на помощь слабо капитализированной российской экономики иностранные капиталы, и обеспечить накопление внутренних ресурсов. Кроме того, что средством модернизации должны были стать иностранные инвестиции, которые Сергей Юльевич называл лекарством против бедности, Витте делал ставку на неограниченное государственное вмешательство в экономику. Другими словами проект Витте – это яркий пример государственного капитализма, как этатизма. Причём, проект, который дал реальный экономический эффект. Этого просто нельзя отрицать, ибо статистика свидетельствовала, что по темпам экономического развития Россия вышла на первое место в мире. Прирост производства этих лет впечатляет: в 1878/88 гг. он составил 26%, в 1882-1892 гг. – 42%, а в 1893-1896 гг. – 162% .
Как правило, Витте критиковали за то, что якобы его проект привёл к двум революциям. Отчасти в этом есть доля истины, т.к. социальное расслоение в России действительно нарастало. Но следует заметить, что Витте обращал самое серьёзное внимание на мирные внешнеполитические условия осуществления модернизации. И Россия, по убеждению реформатора не должна была ввязываться даже в локальные войны. Одна из причин его ухода с поста министров финансов состояла именно в позиции к войне с Японией. Как известно, монархию погубило именно вступление в первую мировую войну, хотя фатальной необходимости в этом не было. Именно война на чужой территории, измотав экономику России, усилила социально-психологическое напряжение в обществе.
В модели государственного капитализма государство является не пассивным наблюдателем хозяйственной жизни или «ночным сторожем», а активным игроком. Его присутствие в экономике может быть в двух формах: как собственника и как регулировщика, дирижёра или настройщика. В исторической практике конца 19-начала 20 вв. использовались оба приёма. К примеру, государство выступало в качестве инвестора крупного проекта – железнодорожного строительства. Он, помимо того, что решал важнейшую проблему транспортного сообщения, включал механизм инвестиционного мультипликатора. А именно: железнодорожный спрос стимулировал подъём смежных отраслей промышленности: на заказах рельсов поднялись металлургическая отрасль и транспортное машиностроение. Государство также создавало крупные предприятия в новых отраслях тяжёлого машиностроения – военные, сталелитейные заводы. Важно, что правительство такими способами не только расширяло производство, но и обеспечивало устойчивый сбыт продукции и покрытие повышенных издержек производства в период освоения новых технологий. Например, на цели реконструкции и укрупнения предприятий государство предоставляло долгосрочные авансы и ссуды из средств казначейства или Госбанка. Правительство также приобретало в собственность предприятия и целые отрасли. Например, в целях спасения производства в случае банкротства, государство выкупало их. Так, в 1886 г. стал казённым Обуховский завод, сохранив свою эффективность, невзирая на смену собственника. Кстати, нередки были случаи возвращения в будущем таких заводов в частное владение.
Таким образом, государство регулировало экономические отношения в сфере крупного и среднего бизнеса, сочетая разнообразные способы дирижирования в народном хозяйстве. Часто встречаемое в литературе мнение о зависимости российской экономики от западных инвестиций преувеличено и относится только к началу модернизации. Согласно расчётам крупного английского исследователя российской экономики П.Грегори в 1903-1913 гг. по удельному весу чистых внутренних накоплений в чистом национальном продукте Россия занимала второе место в мире после Германии. Другими словами, в России к тому времени появились собственные капиталы, и механизм накопления внутренних ресурсов работал. Это подтверждает в своих работах авторитетный российский экономист Абалкин Л.: обороты фабрик и заводов в европейской части России составили в 1877 г. 541 млн руб., в 1887 г. – 802 млн., а в 1892 г. 1100.
Гораздо неоднозначнее оценка практики госкапитализма в СССР в годы новой экономической политики. Как известно, несмотря на то, что нэп способствовал преодолению экономической разрухи, в течение всего его периода (с 1921 и по 1927 гг.) экономику сотрясали тяжелейшие экономические кризисы. В конечном счёте, в руководстве страной укрепилось всеобщее мнение о необходимости либо корректировки нэпа, либо свёртывание его, что и случилось. Значит ли это, что рассматриваемый экономический проект оказался утопией?

Следует отметить, что политика госкапитализма в стране, где победила большевистская власть, проводилась очень неуверенно и непоследовательно. Несмотря на частичную приватизацию и восстановление рыночных механизмов, власть постоянно подчёркивала, что целью государства является построение социализма, а уступки частнику есть вынужденная и временная мера. Причём власть не отказалась тогда и от лозунга мировой революции. Трудно представить, чтобы крупный бизнес в таких условиях стал строить какие либо долговременные и капиталоёмкие экономические проекты. Это хорошо видно на примере провала ленинского плана по расширению иностранных концессий в СССР. Позиция западных концессионеров выражалась, в частности, следующим образом: «Непонятные правовые, рабочие и имущественные отношения в России ужасали». Поэтому представляется, что считать опыт госкапитализма неудачным, ссылаясь на его действие в годы нэпа, было бы некорректным.